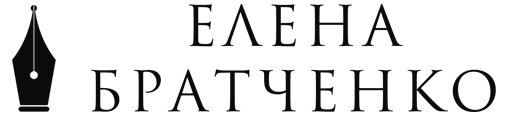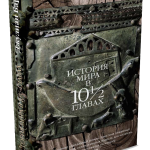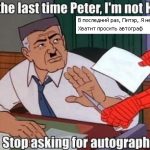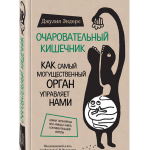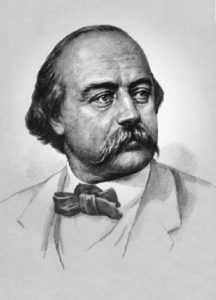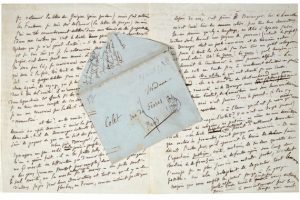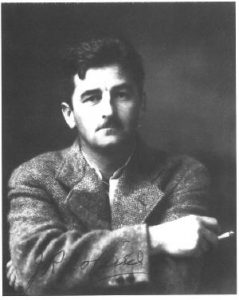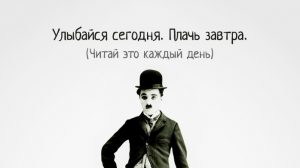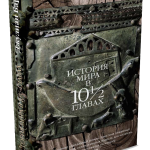
Судя по тиражам и числу критических откликов, «История мира в 10 ½ главах» – самый читаемый роман Джулиана Барнса. Если прогуглить фамилию Барнса на постсоветском пространстве, то получаешь десять миллионов ответов. Если Тургенева запустить, то всего три миллиона ответов. Выходит, что у русскоговорящего населения Барнс в три раза популярнее Тургенева.
Название текста («История мира в 10 ½ главах») позволяет сделать вывод о стремлении автора к целостности повествования, несмотря на внешнюю фрагментарность и определенную обособленность отдельных глав. Нарративная структура прозы Дж. Барнса отличается ослабленностью фабульного, событийного действия, смягчением внешних конфликтов, недопущением эффектных сюжетных ходов. Роман Джулиана Барнса «История мира в 10 ½ главах» представляет собой десять с половиной новелл с совершенно разными сюжетами, действие которых разворачивается во всех ключевых исторических эпохах: Древности, Средневековье, Возрождении, Новом времени и настоящем; на всех основных континентах земного шара: в Евразии, Африке, Северной и Южной Америке. Такой хронотоп романа позволяет создать объемную универсальную картину человеческой цивилизации. Если в первой главе («Безбилетник») представлены события из библейских времен, то последующая («Гости») переносит читателя в ХХ столетие, а третья («Религиозные войны») возвращает в 1520 год.
Создается впечатление, что автор произвольно извлекает из истории отдельные ее фрагменты, чтобы на их основе сочинить тот или иной рассказ. Иногда, вне явной логической связи, разнородные временные пласты совмещаются в пределах одной и той же главы. Так, в «Трех простых историях» (глава седьмая) после рассказа о невероятных событиях в жизни пассажира «Титаника» Лоренса Бизли автор переходит к размышлениям о том, что история повторяется, первый раз как трагедия, второй раз как фарс, а затем вопрошает: «Что собственно потерял Иона в чреве кита?» Далее следуют рассказы о пророке Ионе и о теплоходе, заполненном депортируемыми из нацистской Германии евреями. Барнс играет временными планами, при этом он вводит в каждую из глав нового повествователя (как правило, это маска, под которой скрывается авторское лицо).
Таким образом, фрагментарный характер произведения Дж. Барнса очевиден. Более того, фрагментарность нарочито акцентирована автором.
Постмодернистский текст как бы собирает распадающиеся фрагменты текста, используя принцип монтажа, тем самым стремясь воссоздать целостность, придать некую осмысленную форму.
В романе можно выделить два объекта художественной рефлексии автора – человек и трагическая история человеческого общества. Идейную основу романа Джона Барнса «История мира в 10 ½ главах» составляет поиск ответов на вечные вопросы о природе человека, о прошлом, настоящем и будущем человеческой цивилизации, возможности или невозможности предотвращения грядущей катастрофы.
Роман «История мира в 10 ½ главах» является попыткой разобраться в специфике человеческого бытия, избавиться от приторно удушающих иллюзий относительно человеческой природы и путях развития цивилизации.
Концепция мира воплощается в романе на многих уровнях повествования: в организации времени и пространства, в образах героев и в системе лейтмотивов.
Хронотоп романа создает объемную универсальную картину существования человеческой цивилизации. Писатель выстраивает историю цивилизации не в хронологическом, а в хаотическом порядке: после мифологической Древности идет ХХ в., потом наступает Средневековье, затем Возрождение (эпиграф к главе «Уцелевшая»), снова ХХ в., XIX в. и т. д. Подобная организация времени создает образ хаотичного мира, лишенного замысла развития, Вселенной, развивающейся без плана демиурга.
Центральный лейтмотив, отражающий концепцию мира в романе, – образ корабля-ковчега, который становится символом человеческой цивилизации.
Писатель уподобляет мир кораблю-тюрьме, плавучему концлагерю, которым никто не управляет и который движется в никуда, и чем дальше плывет корабль, тем меньше у человечества шансов на спасение. В романе образ корабля приобретает, в зависимости от эпохи и обстоятельств повествования, форму то ковчега, то туристического парохода, то современного океанского лайнера, то лодки, то плота, появляясь во всех главах, кроме третьей и девятой.
Первая глава «Безбилетник» представляет собой переосмысленную версию библейской легенды о Всемирном потопе и Ноевом ковчеге, изложенную от лица личинки древоточца. Рассказчик говорит о тюремных порядках, царящих на ковчеге, комендантском часе, наказаниях, изоляторе, доносительстве: «Нет, наш ковчег отнюдь не походил на заповедник – он скорей напоминал плавучую тюрьму» (Барнс, 2006: 6).
Таким образом, ковчег из средства спасения, вместилища спасенной жизни превращается в плавучий концлагерь, где все живые существа находятся на краю гибели.
Аналогичная трансформация образа ковчега происходит и в последующих частях романа. В главе «Гости» исламские террористы захватывают круизный лайнер «Санта Юфимия», совершающий «Турне Афродиты» по Средиземному морю.
Название корабля связано с именем Юфимии, героини древнеиспанских мифов. Юфимия была одной из девяти сестер-близнецов, которые вели партизанскую войну против Римской империи на территории Юга Европы и Северной Африки. Имя лайнера дополнительно отсылает нас к ситуации непрекращающейся вражды между расами и народами, которая осталась неизменной со времен древнейших цивилизаций. Арабские террористы мстят США и поддержавшим их странам за отобранную у них землю, за бомбардировки лагерей беженцев, за унижение национального достоинства. Они ведут с Америкой партизанскую войну, как несколько тысяч лет назад воевала Юфимия против Римской империи.
Джон Барнс не случайно выбирает маршрут и название захваченного лайнера-ковчега. Путь корабля лежал в Грецию, колыбель европейской цивилизации, т. е. события романа разворачиваются на символическом фоне Античности, что отсылает читателя к проблеме социальной дисгармонии, которая так и осталась непреодоленной за всю пятитысячную историю существования человечества.
В самом начале главы рассказчик описывает, как пассажиры разных национальностей поднимаются на борт корабля «покорными парами»: «Каждой твари по паре», – прокомментировал Франклин». (Барнс, 2006: 43). Многонациональный состав пассажиров лайнера в контексте книги становится аллегорией человеческого общества, а отсылка к библейскому мотиву деления на «чистых» и «нечистых» – метафорой слабой надежды на спасение для одних и вечной обреченности на гибель для других.
Как и в первой главе, складывается образ корабля-ковчега, который, воплощая в себе идею спасения, парадоксальным образом превращается в плавучую тюрьму, несущую смерть своим обитателям.
В главе «Три простые истории» рассказывается о теплоходе «Сент-Луис», на котором депортируемые из фашистской Германии евреи пытаются спастись, достигнув Америки. Однако принять несчастных беженцев не согласилась ни одна страна мира. Лидеры государств, которые могли спасти пассажиров корабля, стали требовать с них деньги. «Сент-Луис» вынужден был вернуться обратно в Европу, где евреи были распределены по разным европейским странам. Часть из них, попавшая в страны с профашистским режимом, была немедленно переправлена «в лагерь с колючей проволокой и сторожевыми собаками» (Барнс, 2006: 229).
В главе снова повторяется мотив деления на чистых и нечистых, однако в роли Ноя здесь выступают жадные, бесчеловечные политики. Название корабля выбрано автором не случайно. Святой Луи – это французский король Людовик IX (1214−1270), который прославился благодаря двум крестовым походам на Святую землю, т. е. на территорию современного Израиля. Людовик IX приказал изгнать евреев из Франции и сжечь все, что к ним относилось (Грановский, 1986). Аллюзия к эпохе Средневековья снова говорит, что эгоизм, жадность и жестокость – это неизбывные черты человека. Снова повторяется история, снова льется кровь.
В романе постоянно возникает образ корабля, плывущего без управления, без цели. Не умеет управлять ковчегом Ной (глава «Безбилетник»), не знает, куда ей плыть, Кэтлин (глава «Уцелевшая»), из-за некомпетентного руководства происходит трагедия с экипажем фрегата «Медуза» (глава «Кораблекрушение»).
Еще одна важная деталь, связанная с образом корабля, – мотив дрейфа, т. е. своего рода движения в никуда: туристический лайнер, захваченный террористами, никем не управляется и описывает в море «…широкие, медленные круги» (Барнс, 2006: 60) – Кэтлин узнает, что ее лодка кружила на одном месте – не могут управлять своим плотом потерпевшие катастрофу моряки фрегата «Медуза», они просто дрейфуют в океане.
Бессмысленный дрейф кораблей, которыми никто не управляет, отражает мировосприятие автора: история человеческой цивилизации – это не развитие, а бесконечное повторение страшных ошибок, нескончаемое путешествие от одной катастрофы к другой.
В полуглаве «Интермедия» автор характеризует положение современного человечества: «машинное отделение отсутствует, и руль отказал много веков назад. Капитан может разыграть прекрасный спектакль, убедив не только себя, но и кое-кого из пассажиров – все-таки судьба их плавучего мира зависит не от него, а от безумных ветров и угрюмых течений, от айсбергов и случайных рифов» (Барнс, 2006: 272).
История человечества в концепции Дж. Барнса, как уже говорилось, – бесконечное кошмарное путешествие от одной катастрофы к другой. Однако кошмар истории повторялся так часто, что трагическая суть катастрофы подверглась редукции, трагедия стала фарсом, симулякром трагедии. Эта идея отражена в названии книги (A History of the World in 10У2 Chapters). Важно, что писатель использует неопределенный артикль a (an), соответственно название книги можно перевести как «Еще одна история мира», «Очередная история мира», «Одна из историй мира».
Барнс экспериментирует не только с жанровой формой романа, но и с такой ее разновидностью, как историческое повествование. В ненумерованной полуглаве, названной «Интермедия», писатель рассуждает об истории человечества и о том, как воспринимается она читателем: «История – это ведь не то, что случилось. История – это всего лишь то, что рассказывают нам историки. Были-де тенденции, планы, развитие, экспансия, торжество демократии. <…> А мы, читающие историю, <…> упорно продолжаем смотреть на нее как на ряд салонных портретов и разговоров, чьи участники легко оживают в нашем воображении, хотя она больше напоминает хаотический коллаж, краски на который наносятся скорее малярным валиком, нежели беличьей кистью; мы придумываем свою версию, чтобы обойти факты, которых не знаем или которые не хотим принять; берем несколько подлинных фактов и строим на них новый сюжет. Игра воображения умеряет нашу растерянность и нашу боль; мы называем это историей».
Таким образом, книга Барнса может быть определена и как вариации на тему истории, ироническое переосмысление предшествующего исторического опыта человечества.
Объективная истина, по убеждению писателя, недостижима, так как «всякое событие порождает множество субъективных истин, а затем мы оцениваем их и сочиняем историю, которая якобы повествует о том, что произошло «в действительности».
И так же, как и Лиотар, Барнс убежден, что «кошмар истории» должен быть подвергнут тщательному анализу, ведь прошлое просвечивается, обнаруживается в настоящем, как и настоящее – в прошлом и будущем. Героиня главы «Уцелевшая» говорит: «Мы отказались от впередсмотрящих. Мы не думаем о спасении других, а просто плывем вперед, полагаясь на наши машины. Все внизу, пьют пиво… В любом случае <…> найти новую землю с помощью дизельного двигателя было бы обманом. Надо учиться все делать по-старому. Будущее лежит в прошлом».
В данной связи, будет уместным обращение к трактовке интертекстуальности Р. Бартом: текст вплетен в бесконечную ткань культуры, является ее памятью и «помнит» не только культуру прошлого, но и культуру будущего.
Особенностями романа Барнса являются игра субъектами повествования (доминирующий в тексте тип повествования от третьего лица может сменяться формой от первого лица даже в рамках одной главы), смешение стилей (деловой, публицистический, эпистолярный в разных жанровых формах) и модальных планов (серьезный тон легко переходит в иронию, сарказм, умело используются техника намека и гротескной мысли, грубоватая пародия, инвективная лексика), приемы интертекстуальности и метатекстуальности. Каждая глава представляет собой ту или иную версию определенного исторического события. В такого рода «бессистемности», можно усмотреть «прямое следствие представления о мире, об истории как о бессмысленном хаосе».
Тем не менее, картина действительности, воплощенная в романе Барнса, является по-своему завершенной. Целостность придают ей и всепоглощающая «корректирующая» ирония (авторская насмешка Барнса) и сюжетные скрепы, роль которых выполняют повторяющиеся мотивы, темы, образы. Таков, например, образ-мифологема «Ковчег / Корабль». В первой, шестой и девятой главах образ Ноева Ковчега дается непосредственно, в остальных же главах его присутствие обнаруживается при помощи интертекстуальных приемов.
Вот преуспевающий журналист Франклин Хьюз («Гости»), участник морского круиза, наблюдает, как поднимаются на корабль пассажиры: американцы, англичане, японцы, канадцы. В основном это чинные супружеские пары. Их шествие вызывает у Франклина иронический комментарий: «Каждой твари по паре». Но в отличие от библейского Ковчега, дарующего спасение, современный корабль оказывается для пассажиров плавучей тюрьмой (его захватили арабские террористы), несущей смертельную угрозу. Героиня четвертой главы («Уцелевшая») вспоминает то умиление, которое в детстве вызывали у нее рождественские открытки с изображением северных оленей, запряженных парами. Она всегда думала, будто «каждая пара – это муж с женой, счастливые супруги, как те звери, что плавали на Ковчеге». Теперь же, будучи взрослым человеком, она испытывает безумный страх перед возможной ядерной катастрофой (прецедент такой катастрофы уже был, хотя и далеко, в России, «где нет хороших современных электростанций, как на Западе») и пытается спастись, взяв с собой кошачью пару. Лодка, на которой молодая женщина отправляется в спасительное, как ей кажется, путешествие, – что-то вроде Ковчега, уплывающего от ядерной катастрофы.
И в этих, и в других эпизодах романа Барнса отразились такие черты постколониальной модели мира, как кризис прогрессистского мышления, вызванный осознанием возможного самоуничтожения человечества, отрицанием абсолютной ценности достижений науки и техники, индустрии и демократии, утверждение целостного взгляда на мир и более важных, чем любые интересы государства, прав человека.
В полуглаве «Интермедия» находим следующее рассуждение: «Любовь – земля обетованная, ковчег, на котором дружная семья спасается от Потопа. Может, она и ковчег, но на этом ковчеге процветает антрофобия; а командует им сумасшедший старик, который чуть что пускает в ход посох из дерева гофер и может в любой момент вышвырнуть тебя за борт». Перечень подобных примеров можно продолжить.
Образ Потопа (мотив плавания по водам) так же, как и образ Ковчега (Корабля), является ключевым в «Истории мира». «Сквозной» персонаж романа – личинки древоточца (древесные жуки), от имени которых в первой главе в весьма ехидном тоне дается интерпретация (версия) истории спасения Ноя. Так как о спасении личинок Господь не позаботился, то на Ковчег они проникли тайно (глава называется «Безбилетник»). У личинок, поглощенных обидой, свое видение библейских событий, своя оценка их участников. Например: «Ной не был хорошим человеком. <…> Он был чудовищем – самодовольный патриарх, который полдня раболепствовал перед своим Богом, а остальные полдня отыгрывался на нас. У него был посох из дерева гофер, и им он… в общем, полосы у некоторых зверей остались и по сию пору». Именно по вине Ноя и его семейки, как уверяют личинки, погибли многие, в том числе и самые благородные виды животных. Ведь с точки зрения Ноя, «мы представляли собой просто-напросто плавучий кафетерий. На Ковчеге не разбирались, кто чистый, кто нечистый; сначала обед, потом обедня, таким было правило». Не представляются личинкам справедливыми и деяния Бога: «Мы постоянно бились над загадкой, почему Бог избрал своим протеже человека, обойдя более достойных кандидатов. <…> Если бы он остановил свой выбор на горилле, проявлений непокорства было бы меньше в несколько раз, – так что, возможно, не возникло бы нужды в самом Потопе».
Несмотря на столь саркастичное переосмысление Ветхого Завета, писателя невозможно заподозрить в антирелигиозной пропаганде: «…он целиком и полностью занят историей нашего мира, оттого и начинает с события, повсеместно признанного ее истоком». Что это миф – не суть важно, ведь в глазах Барнса потоп «разумеется, только метафора, но позволяющая – и в этом суть – набросать образ фундаментального несовершенства сущего».
Потоп, задуманный Богом, оказался нелепостью, и вся дальнейшая история повторяет в различных формах нелепую жестокость, запечатленную в мифе. Но далее безрассудства уже совершает сам человек, сатирический портрет которого (это своего рода средство образной когезии) дан в разных ипостасях: в облике Ноя, фанатиков-террористов, бюрократов…
Очевидно, что вера в исторический прогресс английскому писателю не свойственна: «И что же? У людей прибавилось… ума? Они перестали строить новые гетто и практиковать в них старые издевательства? Перестали совершать старые ошибки, или новые ошибки, или старые ошибки на новый лад? И действительно ли история повторяется, первый раз как трагедия, второй – как фарс? Нет, это слишком величественно, слишком надуманно. Она просто рыгает, и мы снова чувствуем дух сандвича с сырым луком, который она проглотила несколько веков назад». Главный порок бытия видится Барнсу не в насилии или несправедливости, а в том, что земная жизнь, ее историческое движение бессмысленны. История попросту передразнивает себя; и единственная точка опоры в этом хаосе – любовь. Конечно, «любовь не изменит хода мировой истории (вся эта болтовня годится только для самых сентиментальных); но она может сделать нечто гораздо более важное: научить нас не пасовать перед историей». Однако, завершая свои размышления о любви, автор спохватывается и возвращается к ироническому тону: «Ночью мы готовы бросить вызов миру. Да-да, это в наших силах, история будет повержена. Возбуждённый, я взбрыкиваю ногой…»
В ключевых главах романа отмечается усиление авторского присутствия: на первом плане оказывается авторское «Я», которое преодолевает условность художественного дискурса и стремится к философско-публицистической речи, отличающийся выраженными чертами эссеистического стиля, что позволяет оценить нравственную позицию писателя.
Как-то Барнс сравнил работу писателя с работой Господа бога, потому что писатель должен быть всюду, но невидим: «Да, он должен присутствовать везде, но везде незримо. Это четкое правило, которое я неукоснительно соблюдаю. В одном или двух романах я, правда, появился, сказал читателям, это я Джулиан Барнс, но, вообще, я предпочитаю оставаться незримым, и появляться только на обложках».
Десять с половиной глав, каждая из которых – размышление о религии – и ее безбожии. «История мира в 10 ½ главах» – это голос агностика, пишущего свою версию Библии. Книга, которая медленно и методично, подобно жуку-древоточцу, подтачивает столпы религиозных догматов – подвергая глубокому анализу и безжалостной критике все проявления фанатизма и слепой веры. В одном из интервью Барнс сказал: – Мне, кажется, миром будут править жуки. Не ливерпульские жучки «Beetles», а настоящие жуки. Есть такой ученый Джон Холлидей, который однажды сказал: – Я не знаю, не думаю, что бог существует, но если всё-таки он есть, он должен сильно любить жуков, потому что больше всего из всех видов он создал жуков и именно они скорей всего выживут. – Люди худшее, что могло случиться на земле. Мы определенно сами себя уничтожим. И вот когда мы перестанем существовать, жуки будут править миром. – На вопрос: – Если вы неправы, что вы скажете господу, когда окажетесь перед ним? – Барнс ответил: – Я бы сказал ему тоже, что хотел сказать ему британский философ Бертран Рассел: – Слишком мало доказательств. – Если бы дьявол предложил вам бессмертие без каких-либо условий, вы бы приняли? – Да, – прозвучало без промедления.
Оказавшись на «ковчеге» Барнса, понимаешь, что «всех животных» у него представляют все возможные стили и приемы письма. Автор бросает вызов литературе и неукоснительно следует своему принципу: «Не самое важное – говорит ли писатель правду или нет. Главное: нужно работать над истинным смыслом истории. Именно это я и взял на вооружение. Есть много сюжетов: одни подлинные, другие нет, но часть из них более значимая, чем другие». Мистер Барнс упражняется в писательском мастерстве, непоколебимо следуя главной идеи – заставить читателей взглянуть на историю под неожиданным ракурсом – не как на грациозную, затянутую кожаным корсетом, скучную энциклопедию, где все события разбиты на параграфы и пронумерованы, но – как на хаотичный набор пазлов конструктора, состоящий из слухов и домыслов, рассказанных случайными свидетелями, предлагая каждому из нас собрать свои фигурки. «История? Всего лишь эхо голосов во тьме <…> Мы лежим здесь на больничной койке настоящего (какие славные, чистые у нас нынче простыни), а рядом булькает капельница, питающая нас раствором ежедневных новостей. Мы считаем, что знаем, кто мы такие, хотя нам и неведомо, почему мы сюда попали и долго ли нам придется еще здесь оставаться. И, маясь в своих бандажах, страдая от неопределенности, – разве мы не добровольные пациенты? – мы сочиняем. Мы придумываем свою повесть, чтобы обойти факты, которых не знаем или не хотим принять…»
Прочтение «История мира в 10 ½ главах» Дж. Барнса убеждает в том, что в романе есть все формообразующие постмодернизма: афишированная фрагментарность, новое осмысление, деканонизация и дегероизация мифологических и классических сюжетов, травестия, стилевое многообразие, парадокс, цитатность, интертекстуальность, метатекстуальность и др. Писатель опровергает бытующие критерии художественного единства, за которыми скрывается неприемлемая для постмодернистов линейность и иерархичность восприятия действительности.
Среди хаоса равнодушного и непричастного к человеку мира есть и тихие гавани. Автор говорит о том, что религия превратилась в службу сбора податей, а искусство не всем доступно и не всем понятно. Нам остается только любовь, которая не может считаться благом, но лишь она бережет человека от полного слияния с материальным миром, лишь она дает ему возвыситься над суетой.
Проблема навешивания ярлыков авторам и литературным течениям в том, что однажды ярлыков может не хватить. Сначала был модернизм, и мы смутно представляли, что это, например, Пикассо, Джеймс Джойс, Стравинский. Потом наступило то, что мы назвали постмодернизмом, Борхес и его соратники, они тоже умерли, и как же называть людей, пришедших им на смену? Постпостмодернисты? И вот американская писательница Джойс Кэрол Оутс назвала Барнса предпостмодернистом. Это была её попытка предать постмодернизму человеческое лицо. Пускай этот ярлык не пугает вас, его книги приятно читать.
И все же, «История мира в 10 ½ главах» – это не просто постмодернистская забава. Подобно беломраморному готическому колоссу Дуомо, архитектура романа сложна и интересна. – Критики называют вас хамелеонам. У вас очень меняется стиль. В романе несколько человек, которые называются Джулиан Барнс, являются авторами этих книг, потому что вы очень разный. – Да, мне придется платить им всем. – Барнс построил свой роман, не ограничившись пламенеющей сатирой и отрицанием всего и вся. Он четко иллюстрирует простую мыль: о том, что время – не самый лучший показатель качества идеи, и устоявшиеся моральные нормы могут быть так же ошибочны и часто гораздо более жестоки, чем новые веяния; и вот в этих противоречивых тезисах Барнс пытается найти ориентир, в соответствии с которым людей не пришлось бы делить на «чистых» и «нечистых», «верных» и «неверных».
Основа нравственной философии автора – в противостоянии «тоталитарному сюжету». Барнс размышляет над тем, что такое трусость и героизм в тоталитарном обществе.
В первой главе «тоталитарным сюжетом» оказывается история Ноя – «сумасшедшего старика», подчинившего всей идее спасения избранных. Во второй главе читатель оценивает «террористический дискурс», заставившей известного лектора читать лекцию от лица захватчиков. В третьей главе высмеивается тоталитарное сознание средневековых христиан, задумавших осудить бессловесных тварей за падение епископа. В четвертой главе – трагические последствия бездумного прогресса, итоги веры в историю с ее поступательным движением. Пятая глава показывает жизнь, в которой есть море, чуждое милосердия и гнева, и нет ни Бога, ни Ноя, которые могли бы спасти несчастных моряков. Шестая глава – о тоталитарной вере, которая привела девушка на гору Арарат и оставила ее там навсегда. В седьмой главе вера в провидение и вера в миф разоблачаются Барнсом как несостоятельные упования на то, что не поможет никогда. В восьмой главе американский актер убеждается, что ни индейцы, ни его любовная история не собираются соответствовать его представлениям о них. «Интермедия» – противопоставление любви всем тоталитарным сюжетам, возвышение личного чувства над любым мифом. В девятой главе в фарсовой форме повторяется история Аманды из шестой главы: новый паломник, управляемый неизвестным голосом, отправляется на Арарат, чтобы найти не праотца, а лишь останки предшествующего паломника. Десятая глава – расставание с самым привлекательным мотивом, формирующим «тоталитарный сюжет». Образ рая – в контексте культуры потребления. В этой же культуре предел любого рая, выявляющего относительность любого наслаждения.
Герои Дж. Барнса существуют в мире, в котором нет объективно-героического, заранее заданного смысла. Подобно ладье, у которой два типа движения на любое число полей по горизонтали или по вертикали, отношения между ними достаточно сложны. Задачей героев Барнса становится сохранение душевной трезвости, свободы от слишком «вертикальных» (религиозных, например) идей, но при этом необходимо в «горизонтальном» (например, личном, семейном) существовании обрести свою высоту. Обретение смысла – одна из важных задач, сюжетно решаемых в произведениях английского писателя. Автор приходит к выводу, что есть много способов быть героем без истинного героизма. Его интересуют проявления ежедневного тихого протеста, тихого героизма или трусости, которые человек вынужден проявлять или совершать. В одном из интервью Барнса спросили: – Может ли художник идти на компромисс? И как он живет, когда он должен иметь дело с государством, которое ненавидит, но он не говорит об этом, не может, и он идет на компромисс по многим вопросам? Остается ли он художником или он теряет этот дар от того, что он пошёл на компромисс? – Необходимо различать честность искусства и честность личности. К примеру, Шостакович придумал систему трёх ящиков для своих работ: некоторые из них были данью, которую он платил Кесарю, музыка, понятная официальной власти, другие его работы очень личные, где нет никаких компромиссов, например, струнные квартеты, а в средний ящик помещались компромиссные варианты для широкой аудитории. Последние зачастую были итогом весьма прагматичных переговоров. Последняя симфония Прокофьева, симфония №7, изначально открывалась высокими и печальными звуками труб, а концовка была довольно спокойная, странноватая, жутковатая. Музыкальные бюрократы сказали: – Так закончиться не может. Слишком пессимистично. – Тогда Прокофьев написал концовку веселее, а в дневнике написал своим друзьям: – Когда будет возможность, верните исходную концовку. – И это стало возможным. Очевидно, это вопрос переговоров с властями. Хотя это тоже вопрос. Знаете, люди со стороны, глядя на это, могли бы спросить: – Почему не писать музыку, которую ты действительно хочешь и не хранить её в надежном месте до смены режима? – Но кто знает, сколько продлится такой режим. Шостакович как-то сказал: – Музыка – это не китайское яйцо, если она пролежит в земле 100 лет, то лучше не станет. – Потом, есть переговоры с собой. Особым статусом в художественном мире Дж. Барнса наделена концепция «жизни», которая оказывается не только нравственно-философским, но и сюжетообразующим фактором. Жизнь в текстах Барнса есть совместное (героем, автором, читателем) преодоление абсурда и бунта – несостоятельных, слишком пафосных идей. «Жанровая форма и проблема сюжета». Рассматривая фабулу романа Барнса, нельзя не заметить, что практически на каждой главе лежит налет трагизма. Фабула тяготеет к трагедии, которая, по воле Барнса, превращается в фарсовое повествование или теряет сюжетную динамику в разнообразных комментариях повествователя. Циклический сюжет, предполагающий победу «воскресения» над «смертью», если и появляется, то, как интеллектуальное обретение свободы от мифологических знаков, подчиняющих человека абсолютным, по Барнсу, сугубо внешним ценностям.
Во всех его текстах есть какая-то печаль. На что сам писатель отвечает: – Я не унывающий оптимист. Именно потому, что в повседневной жизни я бодр, мне нравится веселиться, я радуюсь жизни, но, тем не менее, оттенок печали присутствует на всей нашей жизни. Вы же понимаете, что скоро всё закончится окончательно и бесповоротно, если только вы не верите, что всё будет иначе. Если же вы верите в мир иной, то это всё равно мир, откуда никто не возвращался. Поэтому я говорю про оттенок печали. Великий ирландский писатель в жанре рассказа сказал: – Каков истинный Моцарт: он печальный, но красивый или он красивый, но печальный?! И знаете, в обеих версиях что-то есть». Как любой мыслящий человек, Барнс не может жить без ответов; но стандартные отговорки его не устраивают: Заповеди? – Сколько людей погибло ради их соблюдения? – Рай? – ох, не смешите меня: самое скучное место на свете! И в этом разрезе «История мира…» – как бы размышление от противного, поиск смысла за пределами протоптанных и утвержденных христианством дорожек. И еще – попытка описать то чувство, которое испытывает каждый из нас, вдруг осознав, что не бессмертен; и потому мотив одинокого судна в открытом море – мотив кораблекрушения – здесь ключевая тема: куда мы плывем? А есть ли там земля вообще, за горизонтом? И если есть – то будут ли рады нам ее обитатели? И хватит ли у нас сил и – главное – смелости достичь берега и ступить на него? Ведь все на самом деле очень просто: история каждый день учит нас чему-то – это мы вечно прогуливаем ее пары. Нравственная философия Дж. Барнса – взаимодействие двух тематических блоков: «философии религии» и «философии любви». «Религия» – область внешнего начала, способного подчинить человека догматическим принципам. «Любовь» – область личных чувств, мир потенциального счастья. Но в тексте Барнса можно увидеть и усложнение проблемы: «религию» нельзя назвать простым объектом отрицания, а в образе любви появляются мотивы двусмысленной сложности и определенного несовершенства.
Оценивая композиционные границы романа, стоит отметить, что первая глава («Безбилетник») написана саркастическим стилем, живо играющими нотками сарказма в исполнении автора. Предельно современный, лишенный сакральной дистанции взгляд на архетипические сюжеты. Первая глава посвящена событию, вызывающему ассоциации с библейской древностью, с событием из «жизни праотцов». В первой главе перед нами – начало истории. Последняя, десятая глава («Сон») посвящена проблеме конца истории – смерти отдельного человека, вырастающей в общечеловеческую проблему исхода из истории ради достижения рая. Границы текста зафиксировали общее сюжетное движение от «первых глав» всемирной истории, от «допотопных времен» к завершению истории. Связь двух пограничных глав показывает, что общее сюжетное движение есть в романе Барнса, несмотря на то, что видимая фрагментарность повествования остается проблемой, усложняющей жанровую идентификацию.
Решая проблему сюжета и жанра, стоит вспомнить о двух текстах, которые способны прояснить жанровую природу «Истории мира…». Во-первых, это книга Боккаччо «Декамерон». Во-вторых, «Божественная Комедия» Данте. Каждая из ста историй «Декамерона» представляет своих обособленных героев, является вполне завершенным повествованием. Но единая композиция придает новеллам сюжетную устойчивость, подчиняя их единому замыслу. «Декамерон» можно назвать романом в новеллах – жанром, соответствующим свободному духу Ренессанса. Обретение независимости, освобождение от тоталитарных ценностей, подчас совершенно искусственных и лишенных истинной моральной мотивации, – одна из главных идей Боккаччо. Жанровая форма романа в новеллах структурно соответствует этой идеи.
Как и Данте, Барнс начинает свое повествование с изображения «ада», ведь именно так интерпретирует червь-повествователь пребывание на ковчеге, где царит Ной, отличающийся волюнтаризмом, жестокостью и полным невниманием к судьбе индивида. Ассоциации с адом усиливают постоянно возникающие образы низа – вода, поглощающая новые жертвы, трюм, где томятся невинные животные, ставшие заложниками человеческих преступлений. Завершается роман «сном» о достижении рая, в котором удовлетворяются все людские желания, но при этом не появляется главный атрибут рая – счастье. Сюжетно-композиционное движение в «Истории мира» в целом соответствует движению в дантовской поэме (из нижних пределов – в Небеса), но религиозно-эпический характер полностью утрачивается. Ад перестает быть объективным пространством, а рай не только появляется в сновидении, но и оказывается местом, откуда стоит уйти, убедившись в неизбежном кризисе любых форм абсолютного. У Данте любовь синонимична богопознанию. У Барнса любовь – истинно человеческий сюжет, противопоставленный «тоталитарному сюжету».